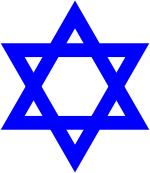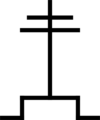Донское кладбище. Часть 1.Печь огненная
"Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь" (Пс. 20, 10).
Никогда на Русской земле не было крематориев. Эти страшные печи появились у нас при советской власти в 20-е годы. В первом антифоне степенных четвертого гласа на Всенощном бдении поется: "Ненавидящии Сиона, посрамитеся от Господа; яко трава бо огнем, будете иссохше". От того, что у нас засохла вера, нас, как траву, и стали жечь - Господь попустил быть тому. Тех, у кого вера усохла, сжигают после смерти и сейчас, порой - по их же безумному желанию... "Кафедрами безбожия" называл крематории Троцкий. Символично: первый крематорий в столице страны - Москве - кощунственно устроили... в одном из храмов старинного Свято-Донского монастыря! Печь, в которой сжигали мертвые тела, дымилась на месте солеи, рядом с алтарем, где ранее приносилась Безкровная Жертва. Вместить такое в сознании - невозможно. И, однако, это было - совсем недавно, есть еще и живые свидетели страшного кощунства. Сейчас в этом многострадальном и столько лет оскверняемом храме возобновлены службы. О прошлом напоминает захоронение праха архитектора Д.П. Осипова, который и перестраивал этот храм под крематорий. Надо ли удивляться тому, что вскоре после этого он умер, его кремировали одним из первых и прах захоронили в колонне храма. Рядом с храмом - серое казенное здание колумбария. С чувством содрогания заходишь внутрь. Коридоры и комнаты, на стенах - ряды многочисленных ниш, их содержимое закрыто мраморными плитками, на которых приделаны фотографии, выбиты даты жизни и смерти, имя, отчество и фамилия их "постояльцев", превращенных в горсть пыли. К плиткам прицеплены цветочки - неживые. В центре узкой комнаты стоят длинные скамейки. Сидя на скамейках в ряд, смотрят родственники на эти многочисленные плитки и фамилии, от которых рябит в глазах. Молиться на этом "братском кладбище" прахов невозможно. Никакого тепла в душе, грусти, чувства вечности тут не возникает. Выметенный, скучный, казенный, колумбарий напоминает какой-то унылый музей или склад. Прогуливаясь за храмом в честь Преподобного Серафима Саровского, среди красавиц-елей вдруг с ужасом замечаешь такие же стены с нишами и фамилиями. Замечаю, что на мраморных плитках с фамилиями нет крестов.
- Мы живем недалеко, и когда я был юным, мне все это внушало ужас, - рассказал мне прихожанин монастырского храма Алексей Анатольевич Басистов. - Камера для сжигания тел находилась в помещении нижнего храма, посвященном преподобной благоверной княгине Анне Кашинской. И специально было сделано так, что кто желает, может посмотреть, как горит...
Говорит прихожанка монастыря Бакаева, 67-ми лет: "Я все детство и до 72-го года жила здесь рядом, на Малой Тульской, и с двумя моими маленькими братьями часто ходила в монастырь. Здесь был музей архитектуры. Крематорий сжигал тела постоянно. Шел дым, и постоянно был запах, там покойников с эфиром каким-то жгли, и запах чувствовался далеко по Донскому бульвару, в зависимости от направления и силы ветра".
Я попросила рассказать о работе крематория в Донском монастыре Татьяну Дмитриевну Божутину, хранителя исторического некрополя Свято-Донского монастыря.
- Крематорий в 20-е годы прошлого столетия был построен на территории так называемого нового кладбища, - говорит она. - Старое кладбище Донского монастыря возникло в XVIII веке, и к началу XX века здесь уже не было места для захоронений. В 1903 году монастырские власти подали прошение в Священный Синод, чтобы им разрешили на огородных землях Донского монастыря расширить монастырское кладбище и построить храм-усыпальницу. Строительство храма началось в 1904 году, он строился долго. В 1914 году нижний храм был освящен в честь преподобной благоверной княгини Анны Кашинской, верхний - в честь Преподобного Серафима Саровского. Донской монастырь после революции вначале оставался действующим, однако в главном храме Донской иконы Божией Матери в 1923 году был создан Антирелигиозный музей, позже - музей архитектуры, а монастырь был окончательно закрыт в 1926 году. А одно время был такой странный симбиоз антирелигиозного музея и монастыря. Утром в храме шли службы, после начиналась деятельность музея. При музее существовала секция приверженцев кремации. Крематорий сначала хотели сделать на Введенском кладбище, но из-за того, что здесь был Антирелигиозный музей, и крематорий решили сделать здесь.
Шатровое завершение храма было разобрано, а на его месте архитектор Осипов возвел кубический объем, как символ нового стиля - конструктивизма, был пристроен колумбарий. Верхний храм использовали как ритуальный зал для прощания. В нижнем храме были поставлены немецкие кремационные печи. Гроб устанавливали на небольшой помост в центре зала. Затем он опускался вниз на тележку и медленно двигался к автоматически открывающимся дверцам печи, в белое бушующее пламя. Занималась дальняя часть гроба, на весь процесс сжигания уходило около полутора часов. Тут же были хранилища для урн, были и невостребованные прахи. В стенах храма урны находятся до сих пор, они только отгорожены от основного пространства храма декоративной стенкой. Только центральная часть алтаря освобождена, а боковые заняты шкафами с прахами. Пока их не вынесли из храма, так как до сих пор не решен вопрос о строительстве нового колумбария.
Когда крематорий строили, это была окраина города. Но постепенно он оказался в центре городской застройки. Печи в 70-х годах закрыла санэпидстанция. Но печи не демонтировали, здесь иногда кремировали членов Политбюро, которых потом хоронили у Кремлевской стены. Здесь же проходили траурные церемонии, а кремировать покойников потом увозили в Николо-Архангельский или Хованский крематории...
В 1992 году вышло постановление о передаче этого храма монастырю. В нижнем храме все относящееся к крематорию было демонтировано, над храмом восстановили пирамидальный купол с крестом, храм был вновь освящен. Но очень долго этот храм не освобождали, там сильная кладбищенская мафия, и были письма в различные инстанции, даже провокации. Донской колумбарий был привилегированным крематорским кладбищем, и в основном здесь захоронены лица иудейского вероисповедания. Русские люди неохотно соглашались на кремацию.
Еще одна грань жуткой темы. С 1918 года Москва покрылась сетью застенков, мест массовых казней. С 1934 до середины 1950-х годов тела умерших и прах кремированных хоронили на Донском кладбище. С началом массовых расстрелов московские кладбища и единственный крематорий едва справлялись с многократно возросшим числом убиенных.
Горько, что захоронения в закрытом колумбарии Донского монастыря продолжаются до сих пор! В администрации колумбария, которая находится на территории монастыря, недалеко от храма Преподобного Серафима Саровского, вывешены расценки: 1-5 ряды - 15 тысяч рублей, середина - 25 тысяч рублей.
Ни в одной из традиционных авраамических религий - Православии, исламе, иудаизме - не разрешается сжигать тела покойников, их хоронят в земле. Для Православных этот злой языческий обычай кремации абсолютно неприемлем. Тело - храм души, оно дано нам Богом, и распоряжаться им как угодно мы не вправе. Мы знаем, что тела умерших восстанут из земли и воскреснут. Если бы на Руси был принят обряд кремации, у Церкви не было бы нетленных мощей наших святых! Сама Литургия совершается на антиминсе, в который вшиты частички мощей мучеников - таинственной ткани Церкви, на которую привлекается благодать. Обряд сжигания тел людей - бунт против Бога, уничтожение Его творения, в конечном счете, и самого себя...
Даже в безбожное советское время русские люди предпочитали хоронить своих покойников по благочестивой традиции предков, их захоронений в этом колумбарии мало. С православного сайта.
Донское кладбище (старое). Часть 2.Старейший в Москве Даниловский монастырь основан был в 1282 году сыном Александра Невского московским князем Даниилом Александровичем. Князь повелел поставить в четырех верстах к югу от Кремля, на живописном возвышенном берегу Москвы-реки деревянную церковь во имя св. Даниила Столпника. Вокруг этой церкви монахи и стали обустраивать свои хижины. Так появился Даниловский монастырь.
Сын Даниила Александровича Иван Калита так горячо полюбил детище своего родителя — подгородную обитель, — что пожелал иметь первый в Москве монастырь не в четырех верстах от Кремля, а прямо у своего стола княжеского — в самом Кремле. Он в 1330 году переселил всех даниловских монахов, как написано в летописи, «внутрь града Москвы на свой царский дворец». И лишь через 230 лет уже Иван Грозный возродил Даниловский монастырь на первоначальном его месте.
С тех пор без малого четыре века монастырь все только «прирастал» и хорошел. Его архитектурный комплекс представляет собой собрание всех существовавших в это время стилей — от древнерусского до эклектики конца XIX века.
После революции Даниловский монастырь продержался дольше других московских монастырей — он был закрыт последним, в 1929 году. И в нем разместился лагерь для заключенных-детей. Но, как ни безжалостно использовала монастырь новая власть, к счастью, большинство его построек сохранилось. Самой тяжелой и, увы, безвозвратной утратой стала ликвидация уникального монастырского некрополя. Лишь немногие останки были перезахоронены где-то на других московских кладбищах. Большинство же могил так и пропали бесследно.
Возможно, кладбище Даниловского монастыря было одним из древнейших русских погостов. Во всяком случае, зародилось оно отнюдь не одновременно с монастырем. Первых умерших даниловских иноков XIII века хоронили на уже существующем сельском кладбище. И трудно даже предположить, когда именно оно было основано. Не исключено, что оно с дохристианским стажем: может быть, еще древние вятичи устраивали там свои могильники.
Самым известным из ранних захоронений на монастырском кладбище стала могила самого основателя монастыря — в 1303 году у деревянной Даниловской церкви был погребен князь Даниил Александрович, принявший перед смертью в монастыре монашеский постриг. Много лет его могила в заброшенном, опустевшем монастыре находилась также в совершенном запустении. Считается, что почитание его могилы и последующая канонизация Даниила Александровича связаны с чудесной случайностью. Одному молодому боярскому сыну из стражи Ивана III явился Даниил и попенял на великого князя: «Если он меня забывает, то мой Бог меня помнит». Боярич немедленно передал это Ивану Васильевичу. Устыженный великий князь отыскал могилу своего славного предка, и с тех пор она стала очень почитаться москвичами. У надгробной плиты, по церковным свидетельствам, стали происходить всякие чудеса: исцеления и прочее. А затем благоверного князя причислили к лику святых и его нетленные мощи были обретены. Это произошло 30 августа 1652 года. Мощи св. Даниила поместили в серебряную раку и установили в монастырском храме Святых Отцов Семи Вселенских Соборов.
До тех пор пока город не подступился к Данилову монастырю, — а преодолела эти четыре версты Москва где-то только во второй половине XVIII века, — на монастырском кладбище хоронили преимущественно самих насельников. Сохранилось любопытное свидетельство древности некрополя Даниловского монастыря. Сейчас в монастыре находится один из старейших в Москве каменных храмов — собор Семи Вселенских Соборов, который начали строить в середине XVII века, и затем к нему пристраивали всякие приделы вплоть до XIX века. На некоторых камнях, вложенных в основание собора, выбиты какие-то надписи, теперь уже едва различимые. Лишь специалистам по силам их разобрать. Оказывается, камни эти не что иное, как древние надгробные плиты. По всей видимости, дефицит строительных материалов вынудил мастеров использовать белокаменные надгробия с монастырского же кладбища. Самые ранние даты на этих камнях относятся к XVI веку. Но естественно, для наружного, лицевого ряда основания храма артельщики использовали наиболее сохранившиеся, то есть относительно новые плиты. А вот каким веком они забутили основание внутри, теперь уже никогда не узнать. Очевидно, что туда были пущены более ранние и, само собою, менее сохранившиеся плиты и обломки надгробий.
Уже к концу XVIII века на монастырском кладбище стали хоронить без разбора сословий и званий. Раньше чтобы похоронить умершего, его сродники должны были получить в полиции так называемый «билет», подтверждающий, что покойный «почил с миром», и дающий право беспрепятственно предать его земле по православному обряду. Когда-то это делалось прежде всего для того, чтобы исключить погребение на православном кладбище самоубийц. Но впоследствии «билет» стал свидетельствовать главным образом, что смерть данного лица не имеет криминального характера. Вот такие, например, «билеты» выдавались когда-то в Москве: «Тело умершего московского купца Алексея Васильева в Данилове монастыре погребсти, мая 27 дня 1783 г.», или: «Тело умершей купецкой жены Марьи Абрамовой, имевшей от роду 40 лет, в Данилове монастыре погребению предать декабря 10 дня 1792 г.». Иногда, если покойный был «высокого рода», такие «билеты» выписывал сам обер-полицмейстер: «Тело умершего господина действительного статского советника князя Михаила Николаевича Голицына, имевшего от роду 71 год, предать земле в Даниловом монастыре позволяется, апреля 5 дня 1827 г. Московский обер-полицмейстер».
В Даниловском монастыре было похоронено много дворян, заслуженных людей, титулованных особ: генерал-майор и кавалер Александр Васильевич Арсеньев (1755—1826), генерал от инфантерии Иван Александрович Вельяминов (1773—1837), действительный статский советник Григорий Михайлович Безобразов (1786—1854), князь Александр Дмитриевич Волконский (1812—1883) и другие Волконские, князь Владимир Константинович Гагарин (1821—1899) и еще несколько князей Гагариных.
С середины XIX века здесь стали появляться могилы известных писателей, историков, ученых, причем преимущественно сторонников русской национальной идеи — славянофилов. В 2000 году на монастырской ограде, у Поминальной часовни, была установлена мемориальная доска. На ней написано: «Деятели истории, науки и культуры, захороненные в некрополе Данилова монастыря. Кошелев Алексей Иванович (1806—1883), славянофил, общественный деятель, публицист. Самарин Юрий Федорович (1819—1876), общественный деятель, писатель, славянофил. Тихонравов Николай Саввич (1832—1893), историк русской литературы, академик. Чижов Федор Васильевич (1811—1877), общественный деятель, ученый-энциклопедист, писатель. От Российской государственной библиотеки. 2000 год».
У входа в настоятельский дом были похоронены Николай Васильевич Гоголь (1809—1852), поэт Николай Михайлович Языков (1803—1846), историк-славянофил Дмитрий Александрович Волуев (1820—1845) и один из основателей славянофильства — богослов, философ, писатель, публицист, социолог, историк, врач, живописец, изобретатель Алексей Степанович Хомяков (1804—1860).
Возле ограды напротив северной стены Троицкого собора была могила поэта Михаила Александровича Дмитриева (1796—1866), автора «Московских элегий» и настоящего бесценного памятника своей эпохи — книги воспоминаний «Мелочи из запаса моей памяти», в которой рассказывается о жизни русской интеллигенции, о московской литературе и журналистике первой половины XIX века. Рядом находилась и могила его сына — первого русского профессора-текстильщика Федора Михайловича Дмитриева (1829—1894).
У северо-восточного угла Троицкого собора был похоронен известный пианист, основатель московской консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн (1835—1881).
Но особенно много в монастыре было купеческих захоронений. Причем хоронили купцов в самых почетных местах, в том числе и под храмами. Такой существовал в России порядок: на лучшем месте хоронили тех, кто жертвовал от щедрот своих на строительство или на содержание храма. Например, в каком-нибудь сельском приходе даже настоятеля этого прихода обычно хоронили на общем погосте, но могила доброхотного жертвователя, — дворянином ли он был, купцом, кулаком — не имеет значения, — всегда находилась в самой церковной ограде, вблизи храма. В 1833–1838 годах в Даниловском монастыре на средства купцов Ляпиных, Куманиных и Шестовых был выстроен величественный собор Живоначальной Троицы. Нет единого мнения об авторе этого красивейшего храма. Считается, что он мог быть построен и О.И. Бове, и Е.Д. Тюриным. Но в любом случае это настоящий шедевр архитектуры. Под собором впоследствии появилось несколько захоронений, в том числе и купцов Куманиных и Шестовых. А в подклете древнего храма Семи Вселенских Соборов были родовые захоронения купцов Ляпиных и Савиных. Причем усыпальница Ляпиных была оформлена в 1910 году крупнейшим московским архитектором Федором Осиповичем Шехтелем. К сожалению, ни работы Шехтеля, ни самих купеческих могил не сохранилось.
В 1876 году монастырское кладбище увеличилось вдвое: с запада к монастырю была присоединена и огорожена новой стеной такая же приблизительно по площади территория. Но хоронили там, как можно предположить, и прежде— еще до строительства стены. Историк Москвы А.Т. Саладин в своих «Очерках...» упоминает замечательный памятник на «новом кладбище» над могилой некой М.П. Хлоповой, умершей и похороненной в 1868 году, то есть до расширения монастыря. Но там уже хоронили людей совсем не знатных. Саладин по этому поводу заметил, что на новом кладбище как будто даже с гордостью пишут на памятниках «крестьянин». Может быть, единственным значительным захоронением там была могила выдающегося художника Василия Григорьевича Перова (1833—1882) — «Некрасова русской живописи», как его называли, автора таких известных всем картин, как «Тройка», «Утопленница», «Сельский крестный ход», «Рыболов», «Птицелов», «Охотники на привале», портретов Островского, Достоевского, Майкова, Писемского, Тургенева, Даля, своего соседа по кладбищу — Рубинштейна. Большинство его работ находятся в Третьяковской галерее, где существует отдельный перовский зал.
Но даже вместе с новой территорией кладбище Даниловского монастыря было очень невелико. И хоронили здесь лишь изредка. В начале ХХ века, например, в среднем по одному покойному в неделю. Об этом свидетельствует документ, сохранившийся в монастырском архиве: «Итого, в 1901-м погребено на кладбище Московского Данилова монастыря мужеского пола — тридцать один (31), женска двадцать два (22), обоего пола пятьдесят три (53)».
После закрытия монастыря и передачи его в ведение НКВД архитектурный его ансамбль стал приходить в упадок и к 1980-м годам был доведен едва ли не до состояния руин. А монастырское кладбище ликвидировано вовсе. Несколько захоронений было перенесено на другие кладбища. На Новодевичьем в 1931 году перезахоронили Гоголя, Хомякова и Языкова и 1939 году — Рубинштейна. А в 1951-м на кладбище соседнего, Донского монастыря перенесли прах Перова и профессора-текстильщика Дмитриева. Все остальные могилы погибли. Так и остались где-то здесь лежать кости декабристов В.М.Голицына (1803—1859) и Д.В. Завалишина (1804—1892), историка, славяноведа Ю.И. Венелина (1802—1839), историка, тайного советника П.В. Хавского (1774—1876), профессора Московского университета, юриста и историка Ф.Л.Морошкина (1804—1857), профессора медицинского факультета Московского университета, физиолога А.И. Бабухина (1827—1891), лекции которого слушал А.П. Чехов, славянофила В.А. Черкасского (1824—1876).
В 1983 году Даниловский монастырь был возвращен Московской патриархии. В течение пяти лет он реставрировался. И теперь вполне восстановлен. При проведении работ строители то и дело натыкались на захоронения. В те годы у северной стены «новой территории» стояли две двухсотлитровые кадки, и, пока шло восстановление монастыря, в них постоянно складывали все новые и новые человеческие кости, так что кадки в конце концов наполнились доверху. Когда же работы были завершены, все найденные останки похоронили возле Поминальной часовни. Теперь там устроены две братские могилы с каменными крестами над ними. Вдоль стены, под мемориальными досками славянофилам и Ю.И. Венелину, выставлены полтора-два десятка старинных надгробий. Вот и все, что осталось от старейшего в Москве кладбища.
***
"Старое Донское кладбище" Б. АкунинНе знаю ничего страшнее и безобразнее действующих московских кладбищ. Они похожи на кровоточащие куски вырванного по живому мяса. Туда подъезжают автобусы с черными полосами по борту, там слишком тихо говорят и слишком громко плачут, а в крематорском конвейерном цехе четыре раза в час завывает хоральный прелюд, и казенная дама в траурном платье говорит поставленным голосом: "Подходим по одному, прощаемся".
Если вас без дела, из одной любознательности, занесло на Николо-Архангельское, Востряковское или Хованское, уходите оттуда не оглядываясь - не то испугаетесь бескрайних, до горизонта пустырей, утыканных серыми и черными камнями, задохнетесь от особенного жирного воздуха, оглохнете от звенящей тишины, и вам захочется жить вечно, жить любой ценой, лишь бы не лежать кучкой пепла в хрущобе колумбария или распадаться на белки, жиры и углеводы под цветником ноль семь на один и восемь.
Новые кладбища ничего вам не объяснят про жизнь и смерть, только собьют с толку, запугают и запутают. Ну их, пусть чавкают своими гранитно-бетонными челюстями за кольцевой автострадой, а мы с вами лучше отправимся в Земляной город, на Старое Донское кладбище, ибо, по-моему, во всем нашем красивом и таинственном городе нет места более красивого и более таинственного.
Старое Донское совсем не похоже на современных гигантов похоронной индустрии: там асфальт, а здесь засыпанные листьями дорожки; там пыльная трава, а здесь рябины и вербы; там бетонная плита с надписью "Наточка, доченька, на кого ты нас покинула", а здесь мраморный ангел с раскрытой книгой, и в книге сказано: "Блаженни плачущие, яко тии утешатся" .
Только не забредите по ошибке на Новое Донское, расположенное рядом, за красной зубчатой стеной. Оно поманит вас луковками церкви, но это волк в овечьей шкуре - перелицованный Крематорий № 1. А у ворот вас улыбчиво встретит каменный Сергей Андреевич Муромцев, председатель Первой Государственной Думы. Не верьте этому счастливому принцу, который, как пчелка, впитал своей жизнью (1850 - 1910) весь мед недолгого российского европеизма и тихо почил до наступления неприятностей, должно быть, совершенно уверенный в победе русского парламентаризма и постепенном обрастании приятными соседями - приват-доцентами и присяжными поверенными. Увы - вокруг сплошь лауреаты сталинской премии, комбриги, аэронавты и заслуженные артисты РСФСР. Пройдет время, и их надгробья со спутниками, рейхсфедерами и звездами тоже станут исторической экзотикой. Но только не для моего поколения.
Нам с вами дальше, в другие ворота, увенчанные высокой колокольней. Москва, которую я люблю, похоронена там. Похоронена, но не мертва.
Впервые я почувствовал, что она жива, в ранней молодости, когда служил в тихом учреждении, расположенном неподалеку от Донского монастыря, и ходил с коллегами на древние могилки пить невкусное, но крепкое вино "Агдам". Мы сиживали на деревянной скамеечке, напротив пыльного барельефа с Сергием Радонежским, Пересветом и Ослябей (он все еще там, хотя, кажется, скоро вернется на стену Христа Спасителя), закусывали азербайджанскую цикуту сладкими монастырскими яблоками, и разговор непостижимым образом все выворачивал с последнего альбома группы "Спаркс" на Салтычиху и с джинсов "супер-райфл" на Чаадаева.
Петр Яковлевич покоился совсем неподалеку от заветной скамейки. Потомкам его могила сообщала о том, кто в Риме был бы Брут, а в Афинах Периклес, один-единственный факт: "Кончил жизнь 1856 года 14 апреля" - и это наводило на размышления.
Что же до Салтычихи, то на ее надгробии время не сохранило ни единого слова и ни единой буквы. Она существовала на самом деле, подольская помещица Дарья Николаевна Салтыкова, замучившая до смерти сто крепостных, - вот единственное, что подтверждала могила. Но чудовища не поддаются дефиниции, устройство их души темно и загадочно, и самый уместный памятник монстру - фигура умолчания в виде голого серого обелиска, напоминающего силуэтом загнанный в землю осиновый кол.
В пяти шагах от места упокоения русской современницы маркиза де Сада из земли произрастает диковинное каменное дерево в виде сучковатого креста - масонский знак в память поручика Баскакова, умершего в 1794 году. Никакой дополнительной информации, а жаль.
Надписи и неуклюжие стихи на могилах - чтение увлекательное и совсем не монотонное. Это не что иное как попытка материализовать и увековечить эмоцию, причем попытка небезуспешная - скорбящих давно уж нет, а их скорбь вот она:
"Покоится здесь юноша раб божий Николай.
От мира и забот его призвал Бог в рай"
(От безутешных родителей почетному гражданину отроку Николаю Грачеву.)
Или совсем нескладно, но еще пронзительней:
"Покойся милый прах в земных недрах,
А душа пари в лазурных небесах
Но я остаюсь здесь по тебе в слезах."
(Уже не прочесть, от кого кому.)
Но любимая моя эпитафия, украшающая надгробье княжны Шаховской, не трогательна, а мстительна: "Скончалась от операции доктора Снегирева".
Где вы, доктор Снегирев? Сохранилась ли ваша-то могилка? Ох, вряд ли. А тут, на Старом Донском, вас до сих пор поминают, пусть и недобрым словом.
Двадцать лет назад, когда я приходил сюда чуть не каждый день, мало кто заглядывал на это заросшее, полузабытое кладбище. Разве что гурманы москвоведения приведут гостей столицы, чтобы попотчевать их главной кладбищенской достопримечательностью - черным бронзовым Христом, вытянувшимся в полный рост в нише монастырской стены. У ног Спасителя уже тогда не переводились свежие цветы, а меня этот во всех отношениях замечательный памятник русского модерна совсем не трогал - очень уж изящен и бонтонен.
Грешен - не люблю достопримечательностей. Очевидно оттого, что они слишком отполированы взглядами, про них и так всё известно, в них нет тайны. На указателях Донского могильника можно найти немало известных имен: историк Ключевский, поэт Майков, архитектор Бове, казак Иловайский 12-ый, а к 200-летию Пушкина на множестве безвестных прежде могил появились аккуратненькие таблички, из которых явствует, что всё это родственники и знакомые великого московского уроженца. Я обхожу таблички стороной, они ничего не добавляют к тайне - наоборот, разрушают ее.
Мои избранники никому кроме меня не нужны. Они не были знамениты, когда жили, а когда умерли, то кроме камня на могиле в этом мире ничего от них не осталось. Девица Екатерина Безсонова 72 лет от роду, скончавшаяся 1823 года пополунощи в 8-ом часу, и статский советник Гавриил Степанович Карнович, отлично-добродетельно истинно по-христиански всегда живший, завораживают меня загадкой своей исчезнувшей жизни. Лаконичнее всего это ощущение выражено в хайку Игоря Бурдонова "Малоизвестный факт":
Все они умерли -
Люди, жившие в Российском государстве
В августе 1864 года.
Они и в самом деле все умерли - говевшие, делавшие визиты, читавшие "Московские губернские ведомости" и ругавшие коварного Дизраэли. Но на Старом Донском кладбище меня охватывает острое, а стало быть, безошибочное чувство, что они где-то рядом, до них можно дотянуться, просто я не знаю, как поймать ускользнувшее время, как поддеть тайну за краешек.
Он, этот краешек, совсем близко - кажется, еще чуть-чуть и ухватишь. Близок локоть...
И я сочиняю романы про XIX век, стараясь вложить в них самое главное - ощущение тайны и ускользание времени. Я заселяю свою выдуманную Россию персонажами, имена и фамилии которых по большей части заимствованы с донских надгробий. Сам не знаю, чего я этим добиваюсь - то ли вытащить из могил тех, кого больше нет, то ли самому прокрасться в их жизнь.
Статья. История Нового ДонскогоНа рубеже XIX–XX веков в Москве появилось сразу несколько новых кладбищ. Они были устроены с внешней стороны стены некоторых московских монастырей, в которых к тому времени хоронить умерших уже было практически негде. Тогда на южной окраине Москвы, у стены обширного Донского монастыря, была огорожена территория, равная приблизительно монастырской. Так возникло новое Донское кладбище.
К концу XIX века кладбище Донского монастыря сделалось одним из самым престижных в Москве. Естественно, и новая его территория, особенно на первых порах, считалась местом погребения для избранных. Это впоследствии некоторых великих отсюда даже стали переносить на Новодевичье, будто им не по чину было лежать в замоскворецкой глуши. А когда-то Донское — и монастырское, и новое — по своему значению ничем не уступало кладбищу в Хамовниках.
Надгробие С.А. Муромцева. Фото 1916 года.В 1910 году на новом Донском был похоронен председатель первой Государственной Думы Сергей Андреевич Муромцев, один из основателей конституционно-демократической партии, профессор гражданского права Московского университета. На выборах в первую Думу кадеты получили большинство мест, поэтому и председателем был избран кадет. Но любопытно, что за Муромцева Дума проголосовала единогласно. А ведь в ее составе были депутаты — категорические противники программы кадетов. Но, видимо, авторитет Муромцева был настолько высок, что его избрали, невзирая на партийную принадлежность. Впрочем, впоследствии, когда Дума начала свои занятия, умеренный центрист Муромцев уже сделался неудобным председателем для радикалов и подвергался критике и «справа», и «слева». Первая Дума провела всего сорок заседаний, с 27 апреля по 8 июля 1906 года, — и была досрочно распущена манифестом государя, в котором, между прочим, говорилось, что «выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область». Царь имел в виду думский аграрный проект, согласно которому значительная часть земель должна быть отчуждена у помещиков в пользу крестьян за выкуп «по справедливой оценке». Конечно, этот проект не мог не вызвать резонанса в обществе. И на Думу была также возложена ответственность за прошедшие крестьянские выступления. Тогда депутаты во главе с Муромцевым выпустили воззвание, призывающее граждан к саботированию любых государственных программ — службы в солдатах, уплаты податей, покупки ценных бумаг и т.д. Подписавшие это воззвание получили в результате по три месяца тюрьмы. Правительству такая мера была необходима для того, чтобы эти депутаты не смогли принять участия в выборах в следующую Думу. Но вторая Дума и без них оказалась еще радикальнее первой. А профессор Муромцев, «первый гражданин России», как его тогда называли, так и отсидел весь свой срок в Московской губернской тюрьме — в знаменитой «Таганке». К политической деятельности он больше не возвращался.
Могила С.А. Муромцева — это, может быть, самое величественное после Мавзолея надгробие в Москве. Оно представляет собою довольно большую площадку, замощенную гранитным камнем серого цвета, со строгой, гранитной же стеной на заднем плане. У самой стены на высоком постаменте стоит бронзовый бюст С.А. Муромцева работы Паоло Трубецкого, автора известного «конного» монумента Александру III в Петербурге.
В дни работы Думы, когда С.А. Муромцев входил утром в Таврический дворец, рослый швейцар принимал у него пальто, котелок и трость. Мог ли председатель предполагать, что автор его будущего надгробного изваяния — Паоло Трубецкой — будет делать скульптуру и с этого человека? По иронии судьбы именно этот могучий отставной гренадер послужил Трубецкому натурщиком, по которому он позже лепил государя Александра Александровича.
В советские времена могила С.А. Муромцева не могла быть почитаемой: как ни велика была его роль в истории России, но он воспринимался новой властью прежде всего как высокопоставленный сановник царского режима, основатель партии «либерально-монархической буржуазии», а следовательно, контрреволюционер. Отношение к нему изменилось лишь недавно, когда общественная мысль стала вольна обращаться к ценностям прошлого. Особенно Муромцев почитается нынешними сторонниками «либерально-буржуазной» модели. Хотя, нужно заметить, эти люди отнюдь не являются наследниками того, прежнего, российского парламентаризма, потому что все они, почти без исключения, большую часть жизни провели в партии, которая этот самый парламентаризм и уничтожила. Но вот в 2000 году, на 150-ю годовщину со дня рождения С.А. Муромцева, к его памятнику была возложена большая корзина цветов с надписью на ленте: «Первому председателю Государственной Думы от первого председателя Государственной Думы. Иван Рыбкин».
В последние предреволюционные годы вблизи своего председателя были похоронены некоторые его коллеги-депутаты. Но сохранилась могила лишь одного из них — Вячеслава Евгеньевича Якушкина (1856–1912), тоже кадета и тоже осужденного на три месяца за антиправительственное воззвание.
У С.А. Муромцева была племянница Вера. И в 1906 году она вышла замуж за не особенно известного в то время, но подающего кое-какие надежды «беллетриста» Ивана Бунина. В Москве они жили мало — Бунин любил путешествовать. Но чаще всего на лето Иван Алексеевич и Вера Николаевна возвращались в Россию и жили под Москвой — в Царицыне, где у Сергея Андреевича была огромная дача. Об этом нет никаких свидетельств, но вполне вероятно, что за восемь лет, с момента смерти С.А. Муромцева и до окончательного отъезда из Москвы, Бунин и Вера Николаевна бывали на Донском кладбище на могиле своего знаменитого родственника. Но вот на могилу другого своего родственника на этом же кладбище они так никогда и не сходили. В 1918 они убежали от революции на юг, а затем и в Париж. А в 1921 году здесь же, у самого мемориала председателя Государственной Думы, был похоронен старший брат Бунина — Юлий Алексеевич Бунин, литератор и журналист. В том, что Иван Алексеевич сделался литературной величиной мирового значения, важнейшая заслуга его старшего брата. Именно под его влиянием вырос и окреп тот бунинский строгий талант, за который он удостоился наивысшего признания — премии Нобеля. Юлий Бунин не уехал вовремя из голодной Москвы и умер, в сущности, от истощения. Присутствующий на этих похоронах Борис Зайцев сделал такой посмертный слепок со своего старого товарища: «Он лежал в гробу маленький, бритый, такой худенький, так непохожий на того Юлия, который когда-то скрипучим баском говорил на банкетах речи, представляя собой “русскую прогрессивную общественность”». Его могила, и та сохранилась случайно. Многие годы она была в полнейшем запустении. К 80-м годам надпись на табличке практически невозможно было уже прочитать. И могила Ю.Бунина едва не исчезла. К счастью, успели тогда установить на ней новую мраморную плиту. Впрочем, с тех пор она уже стала старой.
До революции на новом Донском хоронили преимущественно интеллигенцию — профессоров, всяких чиновников, штаб-офицеров, в том числе участников Первой мировой. Самым значительным дореволюционным деятелем культуры из похороненных здесь был Валентин Серов (1865–1911). Но в 1940 году его перезахоронили на Новодевичьм.
Первый московский крематорий.Революция сделала новое Донское самым необычным кладбищем во всей России. Существуют свидетельства, что еще в 1918 году Ленин велел приобрести за границей печь (или даже несколько печей) для кремирования трупов. Это вполне вероятно, потому что предсовнарком был решительным ненавистником всяких исконных русских традиций, а уж тем более связанных с верой и обрядами. До революции же похороны считались именно религиозным обрядом. Не случайно кладбища тогда разделялись по конфессиональному и национальному признаку. А по русской православной традиции новопреставленный должен быть непременно предан земле, кроме случаев, когда это невозможно сделать (гибель на море, в огне и т.д.). Потому что в час Страшного суда, как учит Церковь, «гробы разверзнутся» и умершие восстанут перед Христом «во плоти». Естественно, Ленин и ленинцы, отвергающие сами такой «обскурантизм церковников», очень хотели и в массы внедрить «материалистическое» отношение к смерти и к погребению. Поэтому кремация, введенная новой властью, имела не столько гигиеническое, сколько идеологическое, политическое значение. В самый тяжелый год гражданской войны — 1919-й — был объявлен конкурс на проект крематория. Победил в конкурсе талантливый архитектор-конструктивист Дмитрий Петрович Осипов. Он предложил неожиданное, а главное, экономичное решение — в ту пору это было особенно важно. По его проекту, крематорием, после незначительной переделки, должен был стать только недавно построенный Серафимовский храм на новом Донском кладбище. Оказалось, что под этим храмом были обширные подвальные помещения, вполне пригодные для установки там кремационной печи. Действительно, Осипову и не потребовалось особенно переделывать здание: самой существенной конструкционной переменой стало возведение вместо купола квадратной в плане башни метров двадцать высотой, застекленной вертикальными витражами. Все прочие изменения касались в основном лишь декоративных элементов постройки. В результате здание, выкрашенное под «мокрый бетон», приобрело строгий, подчеркнуто «траурный» вид. Задымил объект аккурат на 10-летнюю годовщину великого Октября. Газета «Вечерняя Москва» в те дни писала: «В Москве состоялось первое собрание учрежденного Общества распространения идей кремации в РСФСР. Общество объединяет всех сочувствующих этой идее. Годовой членский взнос составляет 50 копеек... Общее собрание решило организовать рабочие экскурсии в крематорий в целях популяризации идей кремации и привлечения новых членов». И продолжалась здесь такая языческо-атеистическая утилизация членов общества кремации и сочувствующих этой идее до 1973 года. Это была запоминающаяся, прямо-таки бухенвальдская картина: из мрачной квадратной башни, господствующей над местностью, отовсюду хорошо заметной, день и ночь поднимался черный дым. Жильцы в соседних домах обычно не развешивали на балконах белье — ветер мог принести на него сажу.
Донской крематорий поглотил десятки тысяч трупов. Одних только солдат Великой Отечественной, умерших в московских госпиталях, здесь было кремировано и похоронено в братской могиле свыше пятнадцати тысяч человек. Все погребенные в Кремлевской стене до 1973 года были преданы огню здесь же. В период репрессий с Лубянки, из Лефортова, из других мест сюда грузовиками свозили трупы казненных или замученных. И сейчас на территории нового Донского кладбища погребен прах В.К. Блюхера, А.И. Егорова, М.Н. Тухачевского, И.П. Уборевича, И.Э. Якира, А.В. Косарева, И.В. Косиора, А.М. Краснощекова, П.П. Постышева, М.Н. Рютина, А.И. Угарова, Н.А. Угланова, В.Я. Чубаря, Сергея Клычкова, Михаила Кольцова, Всеволода Мейерхольда и многих других. В глубине кладбища, на перекрестке двух дорожек, стоит обелиск в память о жертвах репрессий, а вокруг него в землю воткнуты десятки табличек с их именами. Такую табличку здесь может установить каждый, у кого был репрессирован кто-то из близких.
С момента пуска крематория основным типом захоронения на новом Донском стала урна с прахом, установленная в колумбарии или в самой кладбищенской стене. Иногда пепел кремированного хоронят в землю. И уже давно умерших не погребают в гробах, как это делалось в докремационный период.
В значительной степени именно поэтому новое Донское кладбище, начавшее свою историю как вполне православное, русское, впоследствии сделалось кладбищем преимущественно «инородческим», как раньше говорили. Здесь сразу бросается в глаза непропорционально великое, по сравнению с другими московскими кладбищами, количество еврейских захоронений. Иногда на памятниках выбиты соответствующие символы, изредка встречаются надписи на иврите, но чаще всего еврейские захоронения узнаются просто по именам и фамилиям погребенных. Объясняется это опять же спецификой кладбища. Русские люди, во всяком случае в основной массе, даже в годы наибольшего распространения атеистических и антиправославных идей предпочитали хоронить умерших традиционно, то есть предавать тело земле. Для евреев же это, по всей видимости, не имеет существенного значения, и поэтому они легко, без ущерба для традиций, кремируют своих умерших.
На территории кладбища несколько колумбариев, главным из которых считается здание бывшего крематория. Там по всем стенам устроены ниши, в которых стоят урны с прахом многих заслуженных людей — революционеров, военных, крупных ученых, академиков, деятелей культуры. Всем москвичам, да и гостям столицы тоже, хорошо известна «Горбушка» — крупнейший в Москве радиорынок. Но, наверное, мало кто задумывается, почему он так называется. Собственно, это неофициальное наименование перешло к рынку от расположенного по соседству дома культуры. А дом культуры был назван в честь С.П. Горбунова, одного из создателей советской авиации, инженера-конструктора, директора авиазавода. В 1933 году он погиб в авиакатастрофе. И урна с прахом этого теперь почти забытого деятеля с тех пор покоится в здании крематория на новом Донском. Тут же погребены некоторые генералы и офицеры, погибшие под Москвой в 1941–1942 гг. Очень много здесь похоронено революционеров с дооктябрьским стажем, политкаторжан, участников революции 1905 года, причем не только большевиков, но и членов других социалистических партий, которых в начале 30-х еще хоронили по чести. Это уже позже их испепеленные останки стали ссыпать в общую яму. Здесь покоится даже совсем уж экзотический революционер — участник Парижской коммуны Гюстав Инар (1847–1935). Некоторое время в этом зале находилась урна с прахом Владимира Маяковского, но затем его перенесли на Новодевичье. А в 1934 году здесь был кремирован и похоронен в стене сам автор проекта крематория — архитектор Д.П. Осипов.
На территории кладбища несколько колумбариев разного типа — и открытые, уличные, и в специальных зданиях. На одном таком здании (это восемнадцатый колумбарий) на стене в технике барельефа изображена картина скорби: аллегорические фигуры застыли в тоске над своим умершим близким. Барельеф этот открыт в начале 60-х годов и благополучно сохранился до нашего времени. Но вот это и удивительно. Дело в том, что автор этого барельефа Эрнст Неизвестный, высланный в свое время из страны за диссидентство. При аналогичных обстоятельствах творчество любого другого деятеля искусства попадало на родине под жесткий запрет: если он был писателем, его книги изымались из библиотек, если кинематографистом, его картины арестовывались и запечатывались в фондах. С архитектурно-монументальными произведениями дело обстояло, как теперь можно понять, сложнее: власти нужно было произведение либо уничтожать, либо не подавать виду, что она — власть— помнит, кто его автор. В случае с барельефом Неизвестного на новом Донском, кажется, был избран второй вариант.
За этим же восемнадцатым колумбарием находится одна очень любопытная могила. Там на высоком черном гранитном постаменте установлен бюст человека средних лет. И никаких надписей на камне — ни имени, ни даты. Говорят, что здесь похоронен известный шпион Олег Пеньковский. Имея доступ к каким-то государственным секретам, он продавал их западным спецслужбам. Но был разоблачен и казнен. Родственникам якобы выдали его тело и даже разрешили похоронить в Москве, но только с условием, что на его могиле не будет никакой надписи. Но возможно, это кладбищенская легенда, какие существуют на каждом кладбище, а похоронен здесь совсем другой человек.
Но если антисоветский шпион Пеньковский — не более чем легенда Донского кладбища, то советские шпионы, ставшие людьми-легендами, здесь действительно похоронены. Причем их имена написаны на граните вполне отчетливо. Им больше незачем скрываться. Вообще, на новом Донском похоронено очень много сотрудников наших спецслужб. Если на каком-то монументе, кроме имени погребенного и лет его жизни, нет больше никаких надписей, — кто он был, этот человек? чем занимался? — но на камне выбит маленький значок с изображением щита и меча, то очевидно, что здесь лежит какой-то чекист. И таких могил на Донском немало. Но есть несколько могил здесь с именами людей, о которых не нужны какие-то дополнительные сведения. Эти люди являются нашей национальной гордостью. И известны практически всем. Это, например, крупнейший, как о нем иногда говорят, разведчик ХХ века Фишер Вильям Генрихович (Абель Рудольф Иванович, 1903–1971). И гроза украинских сепаратистов, от одного имени которого им никогда не будет спокойно спаться, — Судоплатов Павел Анатольевич (1907–1996).
Очень много на новом Донском похоронено деятелей культуры. Иногда здесь можно сделать просто-таки неожиданное открытие. В энциклопедии «Москва» написано, что звезда сцены и кино 30–70-х гг. Фаина Георгиевна Раневская похоронена на Новодевичьем кладбище. Не тут-то было. Ее могила здесь — на Донском. Кажется, ее вообще никогда не интересовал престиж по-советски. У нее было несколько орденов, которые она не носила, а держала в коробочке с надписью «Похоронные принадлежности». Конечно, когда авторы энциклопедии писали о ней статью, они и мысли не допускали, что великая актриса может быть похоронена где-либо, кроме Новодевичьего, а проверить не удосужились. А она завещала, чтобы ее похоронили на Донском, там, где уже покоилась ее сестра.
Среди сотен мраморных досок, закрывающих ниши с урнами по длинной кладбищенской стене, есть ничем не примечательная дощечка с малоинформативной надписью: «Константин Никитич Митрейкин. 1902–1934». Этот человек, наверное, вообще не сохранил бы о себе никакой памяти, если бы Маяковский в поэме «Во весь голос» не упомянул некоего «кудреватого Митрейку», поэта-графомана с его точки зрения. И действительно, вместе с сотнями таких же незначительных сочинителей стихов он практически выпал из поля зрения даже специалистов. Выпустивший недавно большую антологию поэзии Евгений Евтушенко поместил туда и несколько строчек из его сочинений. Но в примечаниях написал, что место погребения Митрейкина неизвестно. А он тут — Митрейкин — в стене Донского кладбища. Рядом с Митрейкиным стоит невысокий камень розового гранита с размашистой надписью «Александр Родченко». Этого довольно нашумевшего в свое время дизайнера и художника-авангардиста тоже вспоминают теперь чаще всего в связи с Маяковским: они вместе с ним входили в так называемый левый фронт искусств.
По левой дорожке, ведущей от бывшего крематория к воинскому мемориалу, стоит величественный монумент — большая черная плита с надписью «Поэт Борис Брянский». И тут же, под этим камнем, покоится другой поэт, отец первого — А.Д. Брянский, известный больше под псевдонимом Саша Красный. Этот Саша Красный, скончавшийся в 1995-м, безусловно, войдет (и уже вошел) в историю литературы: он умер на 114 (!) году, установив рекорд продолжительности жизни среди писателей.
А слева от входа на кладбище, в стене, покоится прах драматурга Якова Петровича Давыдова-Ядова (1884–1940). Вряд ли теперь кто-то помнит самого драматурга и его драматургию. Но вот одно его произведение стало, как говорится, народным. Это слова к песне «Купите бублички».
Вся история ХХ века представлена на новом Донском. По захоронениям здесь можно выстроить подробнейший рассказ об эпохе — от первых политкаторжан до возвратившегося из эмиграции советского диссидента, ученого и поэта Кронида Любарского (1934–1996), от зачинателей отечественной авиации до создателя космического корабля «Буран» академика Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского (1909–2001).
Что ни захоронение, то повод вспомнить какую-нибудь байку о советском режиме. Вот, например, могила Бетти Николаевны Глан. Она была когда-то директором ЦПКиО им. А.М. Горького. Однажды ей позвонили из Кремля и сказали, что товарищ Сталин сегодня посетит парк. И объявили, во сколько именно он приедет. Бетти Николаевна решила, что к этому времени она успеет сходить в парикмахерскую — не могла же она предстать перед любимым вождем с куафюрой, не убранной по высшему разряду. Но Сталин приехал раньше и директора парка на работе не застал. В результате Бетти Николаевна получила все, что причиталось советскому человеку в таких случаях. А в ЦПКиО с тех пор завелась традиция, которую там свято соблюдают по сей день: в рабочее время директора парка всегда можно застать на службе.
На новом Донском похоронены родители М.В. Келдыша; отец Н.И. Бухарина — Иван Гаврилович (кстати, Бухарины жили не так далеко от этого кладбища — на Ордынке); жена наркома внутренних дел Николая Ежова, из-за которого печь Донского крематория до срока выработала ресурс, — Евгения Соломоновна Хаютина; историк Москвы Петр Васильевич Сытин; художественный руководитель Еврейского камерного театра Соломон Михоэлс; популярная в 60-е годы певица Майя Кристалинская...
В конце 90-х годов квадратная башня осиповского крематория была разрушена, а над зданием поднялся пирамидальный купол с крестом. Траурный, «мокрого бетона» цвет сменил веселенький, розовый. В бывшем зале прощания вместо органа теперь алтарь, а там, где находился постамент с лифтовым механизмом, опускающим гроб к печи, теперь выступает солея. Но самое потрясающее, что в храме в неприкосновенности сохранился весь колумбарий. Он лишь прикрыт легкими временными перегородками. Жуткая картина, по правде сказать. Храм-колумбарий. Такой эклектики еще не знала мировая архитектура. Конечно, об этом говорить уже несвоевременно, но лучше было бы сохранить крематорий проекта Осипова. Он уже давно сделался памятником архитектуры и истории. Но если уж решили на этом теперь отнюдь не православном и не русском кладбище восстанавливать храм, то восстанавливать его надо уже до конца, а не наполовину. А всех, кто там похоронен, поместить в новое соответствующее помещение.
Но такое впечатление, что еще не решено окончательно, чем же в конце концов будет это здание — храмом или все-таки колумбарием?
@темы: древние захоронения, московские кладбища, кремация, клипы/ролики/передачи